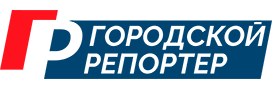На юге России появился первый «толстый» литературоведческий журнал — «Prosōdia» (греческий термин, «учение об ударении»). Издание стало очередным, но, возможно, самым значительным проектом Центра изучения современной поэзии ЮФУ. Ранее Центр уже организовывал «Дни современной поэзии в Ростове-на-Дону» и семинар «Языки современной поэзии»: на них приезжали авторы и литературоведы со всей России. Главным редактором «Prosōdia» стал его руководитель, доктор филологических наук и поэт, Владимир Козлов.
— Для кого сделан журнал Prosōdia, кого вы видите его читателем?
Владимир Козлов: Я думаю, это пока проект читателя. Есть издания, которые формируют свою аудиторию форматом, и я сторонник такого подхода. Сначала появляется претензия на оригинальный продукт, а потом становится понятно, нужен он или не нужен. Prosōdia для тех, кто интересуются тем, что происходит в поэзии. Существующие журналы публикуют новые массивы текстов — они не очень помогут человеку, который не в теме, но интересуется современной поэзией. А мы в большей степени делаем журнал для читателей поэзии, чем для ее авторов. На авторов, на поиск новых имен и текстов у нас направлена вся индустрия — и в этом поле мы даже не будем пытаться конкурировать. Зато мы можем предложить другие принципы отбора, обратить внимание на то, что поэзии дал юг России — ведь с федерального уровня часто не видно того, что достойно внимания.
— То есть ждать, что будут открываться новые имена, не приходится?
В.К.: Это просто не самоцель. Хотя в первом же номере Prosōdia у нас были авторы из Таганрога: Олег Хаславский и Сергей Гузев. У них выходили книжки в Таганроге, Гузев в начале нулевых сделал свой сайт, на котором некоторое время публиковал стихи. Но сказать, что это были открытые имена, все-таки трудно. Проблема сложнее — нужно открывать не тех, кто должен появиться ниоткуда. Вот я за последнюю неделю получил четыре рукописи от разных людей, чьи имена мне неизвестны, география — от Урала до Перми. И, знаете, справки об авторах очень насыщеные. Видно, что люди много где пытались что-то сделать, засветились, где-то в лонг-листах премий прозвучали, или даже побеждали в небольших. Но их имен все-таки никто не знает. И таких имен очень большой пласт, который нуждается в большой работе. В рукописях перемешаны здоровое и нездоровое, качественное и некачественное. Современной поэзии не хватает именно прочтения. Есть огромный массив текстов, и нужно попытаться с этим разобраться. Главные редактора толстых журналов стонут от вала стихов. Однажды Сергей Чупринин, глава «Знамени», сказал, что это национальная трагедия. Я не согласен с тем, что это трагедия, но действительно — это совершенно новая ситуация. Главная амбиция, которая у меня есть: я думаю, что могу отличить хорошее стихотворение от плохого. И некоторым издателям поэзии я в этом умении отказываю.
— Для публикации в журнале нужен очень высокий уровень? Или попадание в редакторский вкус?
В.К.: Нужен уровень. Главные амбиции журнала Prosōdia не в том, что он напечатан — напечатать что-либо сегодня может почти каждый. Главное — попытка задать уровень, который бы не отпугивал авторов самого высокого уровня. Авторов привлекает не обложка, не полиграфия — их привлекает контекст, в котором они окажутся. Когда автор видит, что это контекст высокого уровня — он даст стихи с очень высокой вероятностью. Если нет — гоняйтесь за ним сколько угодно. Добиться успеха в поэзии не может просто человек с деньгами — ему никто не даст стихи.
— В последнее время одним из ключевых вопросов в околопоэтических кругах стал поиск лучших фигур, попытки очертить круг достойных. Как он выглядит у вас?
В.К.: Есть поэты и критики, которые периодически составляют для себя десятку лучших и раз в год обновляют список. Мой список узок. Мне кажется, что наибольшую роль в поэзии сегодня играют «семидесятники» — Чухонцев, Рейн, Кушнер, Гандлевский, Николаева и Кибиров. Это поколение, которое ввело в поэзию образ частного человека. Частный человек, который невысокого мнения о себе, имеет дело с личным адом, он мало на что претендует, но ему нужно как-то уживаться с большой культурой. Он лишен иллюзий. «Шестидесятники» были гораздо более общественными. «Возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке».
— Внутри «семядисятников» есть водораздел?
В.К.: Это все очень условно. Нет, для меня нет водораздела, типологически это одно явление, но разная индивидуальная поэтика. Гандлевский — это очень кухонные рефлексии нелюбящего себя и пустословие полупролетария полуинтеллигента, который держит в голове цитаты из школьной программы и проверяет свои идеи классикой. С другой стороны Кибиров, который берет общие места культуры и разрабатывает их, отчасти даже упивается стереотипами, разрабатывает давно известные мелодии, темы, вариации и, не претендуя на оригинальность, оказывается довольно оригинален. У Николаевой свой путь, мне кажется, — она использует наработки древнерусской литературы. Я нахожу у нее следы стиля плетения словес, в котором была заложена мысль о том, что на свете существуют вещи, которые нельзя назвать, поэтому мы пытаемся каждый раз нанизывать однородные части, чтобы приблизиться к невыразимому. При этом для Николаевой человек — это поле борьбы разных стихий, разных сил, именно они субьекты действия, а не люди.
— Есть мнение, что пришедшие в наши дни технологии мгновенного отклика, огромное количество отзывов начинает формировать слабых авторов. Как только они понимают, что стихотворение на youtube набрало определенное количество просмотров, сразу начинают двигаться только в этом направлении. Есть ли такая тенденция в современной поэзии и как с этим справляются серьезные авторы?
В.К.: Они не смотрят на отклик читателя. Это невозможно делать. Как правило, откликом читателей занимаются редактора. Большие писатели работают с ними. Ответственность перед читателем несет редактор. Конечно, особенность культурной ситуации в том, что она заточена под употребление очень легких продуктов, и технологии быстрого отклика поощряют быстро перевариваемую пищу. Это проблема глубины культуры. Следствием демократической революции в поэзии, которая произошла в 90-е, стало то, что картинка в поэзии стала плоской. Это огромная проблема для тех, кто привык копать вглубь. Стало непонятно, как это доносить, и самое главное искушение здесь в том, чтобы идти за этим плоским многообразием, и, в общем, отключать ценностные суждения. Надо сказать, что когда мы придумывали журнал, было желание немножко усложнить картинку. На самом деле те, кто сейчас делают журналы о поэзии, — они тоже считают, что они усложняют картинку. А нам хотелось усложнить даже по сравнению с ними. То есть у них гораздо более сложная картина по сравнению с тем, что происходит в сети, а у нас по сравнению с ними. Нам интересны сюжеты, изучение традиций, глубокие прочтения текстов. При этом мы бы не создавали такого журнала, если бы он уже существовал. Проблема в том, что журнала, объединяющего интерес к знаниям о поэзии и интерес к самой поэзии, не было. Сейчас мы получаем неплохой отклик — я думаю, это происходит именно потому, что мы точно попали в нишу.
— Вы упомянули, что будете пристально приглядываться к югу России, и, в общем, это понятно. У вас есть ощущение какого-то общего лейтмотива в южной поэзии? Prosodia сделана, чтобы рассказать о нем или чтобы был механизм его поиска?
В.К.: Да, это повод, чтобы проводить эту работу. Нет, я не вижу общих мотивов, потому что я не вижу общей картины. Для меня важно просто с одной стороны находить какие-то фигуры, о которых должны знать на федеральном уровне, а с другой стороны — правильно их подавать. Вот был у нас еще недавно большой поэт — Леонид Григорьян. Четыре года назад умер, 1928 года рождения. У него вышло 17 книг за жизнь. Из них только одна, в начале 70х годов — в Москве. Все остальные вышли в Ростове и Таганроге. В его библиотеке книги с автографами от всех ведущих поэтов послевоенного периода. То есть его знали. Но в столице его не знают. Я знаю людей, для которых Леонид Григорьян стоит в десятке лучших поэтов второй половины 20 века — но о его существовании знают буквально единицы. Понятно, что нужно сделать с этой фигурой — ее надо доносить до целевой аудитории. Нужно делать публикации отобранных, лучших стихов. В Ростове есть самобытная художественная среда, особенно если копнуть в прошлое, но это преимущественно гумус, который сформировался и остается в первозданном виде. Это культурный слой, в котором никто не разбирается. А его надо перерабатывать с филологическими компетенциями — журнал даст повод проводить эту работу.
Было интересно? Хотите быть в курсе самых интересных событий в Ростове-на-Дону? Подписывайтесь на наши страницы в ВКонтакте и канал в ЯндексДзен и Telegram.
Вы можете сообщить нам свои новости или прислать фотографии и видео событий, очевидцами которых стали, на электронную почту.